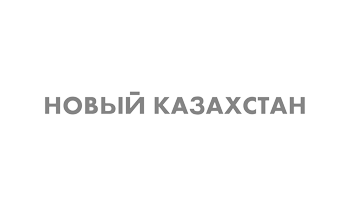
Детство Саясата Нурбека прошло на окраине Семея. До 13 лет рос в твердой уверенности, что он кенже – младший ребёнок в семье бабушки и дедушки, к которым он попал в двухмесячном возрасте. Во втором классе сильно заболел – обнаружили какую-то сердечную аномалию, поэтому до пятого класса он только и делал, что лечился.

– Друзей у меня почти не было, меня к ним не тянуло, я вообще был каким-то асоциальным, предоставленным самому себе ребёнком, – рассказывает Саясат Нурбек. – Но в этом был и свой большой плюс – общение со сверстниками заменили книги, годам к 13 я перечитал всю нашу школьную библиотеку. Однажды в нашу школу пришли двое – молодые турок и казах (последний почти наш ровесник) – презентовать казахско-турецкий лицей. Нас больше всего потрясло то, что делали они это на английском и турецком. Это был первый переворот в сознании. Надо же! Такие же, как я, а умеют говорить на нескольких языках! И я решил участвовать в конкурсе. Все пришли с родителями, а я – один.
Со всей области желающих учиться в лицее набралось 2800 человек, а принимали всего 50. Я вошел в первую пятерку и мне даже выделили грант. То есть обучение было бесплатным для всех, но надо было вносить какие-то деньги за питание, меня от этого освободили.
В Казахско-турецком лицее у меня, наконец, появилась так не хватавшая раньше уверенность в себе. До учебы здесь я был, честно сказать, очень закомплексованным, не видевшим правильного, ни отцовского, ни материнского, воспитания ребёнком. Я уже говорил, что рос как сорняк в поле. Никто меня ни в школе, ни дома не ругал, но и не хвалил. А в лицее вдруг выяснилось, что я имею склонность к изучению иностранных языков и вообще восприятию новых знаний. Кроме образовательных процессов, выстроенных на хороших международных стандартах (обучение шло только на английском), в лицее был институт воспитателей. В подростковом периоде очень важно иметь перед собой модель человеческого поведения, а мы к молодым образованным ребятам-туркам, нашим воспитателям, относились как к кумирам. Ими трудно было не восхищаться: они хорошо играли в футбол, в настольный теннис, владели языками.
Образовательная модель лицея в том и заключалась, чтобы поддерживать талантливых ребят. Давая дополнительные нагрузки, их, например, отдельно готовят к олимпиадам. Я сразу стал показывать хорошие результаты и для меня открылся мир – участвовал в нескольких международных олимпиадах. Конечным результатом такого обучения стало то, что, едва став студентом Евразийского университета имени Гумилева, смог выиграть грант правительства США и поехать туда на учебу. Этот грант выдается очень маленькому количеству людей. И это правильно: чем меньше – тем более он объективен.
Саясату Нурбеку повезло – в Америке он попал в семью профсоюзных лидеров, Дэвида Флеминга и Бэг Дэвис и стал фактически сыном этой бездетной пары. В американском колледже он учился по специальности «политические науки». Так как Дэвид и Бэг были активными членами демократической партии, то они порекомендовали Саясата в помощники своему семейному другу Марку Смиту, баллотировавшемуся в то время в американский конгресс. А в 2000 году началась предвыборная компания кандидата в президенты США от демократической партии Альберта Гора. И у Саясата появилась возможность напрямую быть вовлеченным в самые верхние эшелоны американской политики, узнать этот процесс изнутри. Присутствовал на всех собраниях демократов, ездил вместе со своим шефом по всем штатам.
Домой Саясат Нурбек вернулся в 2001 году. Экстерном сдав в Евразийском университете экзамены за второй курс, перешел на третий, и сразу же начал активно представлять вуз на разных площадках – в дебатных клубах и международных конференциях. Когда японское агентство международного сотрудничества Джайка объявило конкурс на стажировку в Токийском университете, он выиграл грант.
– Но повезло мне с ним совсем не случайно, – вспоминает Саясат. – В 1998 году одна известная строительная компания из Японии принялась возводить в моем родном Семее подвесной мост. В то время ощущалась огромная нехватка людей, владеющих английским. Узнав, что обучение в казахско-турецком лицее идёт на этом языке, представители компании пришли к нам. Вот так я, 15-летний подросток, начинал свою трудовую карьеру. После окончания учебы в Евразийском университете встал вопрос о магистратуре. Я изначально был нацелен на то, чтобы не терять время и сразу поступить туда, но мне нужен был абсолютно бесплатный грант, включающий дорогу, проживание и пропитание, а там в качестве залога требовалась недвижимость. Получилось только с Италией – при условии, что буду преподавать какое-то время в местных вузах политологию. Хорошо, что я приехал в эту страну чуть пораньше. Вуз недобрал нужного количества людей, поэтому обучение решили вести на итальянском.
«Но мы понимаем вашу трудную ситуацию, – сказали честные итальянцы, – поэтому дадим вам средства для изучения языка». Диктофон стал в те дни моим главным оружием. Мучился я неимоверно: записывал лекции, возвращаясь в общежитие, расшифровывал их, выписывал незнакомые слова. Почти полгода жил в таком авральном режиме. Выручила природная склонность к языкам. Уже после Нового года я начал читать тематические лекции. Очень помог американский опыт участия в электоральных событиях, а ещё я, выходец из СНГ, рассказывал итальянским студентам про распад СССР и формирование новых независимых государств. Все это имело успех и вскоре меня попросили выступать в одном из университетов Неаполя. Через год я уже так освоился, что в Турине, где проходили зимние олимпийские игры, работал переводчиком, плюс занимался репетиторством – преподавал английский. На заработанные деньги исколесил почти всю Европу. Стажировался, например, в Брюсселе, в Европарламенте, защищал свою работу в колледже в Брюгге.
После учебы Саясат Нурбек вернулся домой. Работал в академических структурах. Был, в частности, проректором академии государственного управления, трудился в Администрации президента, в фонде Самрук-Казына», работал в акимате Алматы… Разочаровывался в госслужбе, уходил… Мог бы уехать за границу, но не уехал.
– Дело в том, что там действует прагматичная система поиска и поддержки талантов, – говорит Саясат. – То есть если есть какая-то уникальная компетенция или знания, то человек однозначно нужен. За этим стоит ярко выраженный коммерческий интерес: он поможет мне заработать больше. Идёт, таким образом, чёткая бизнес-императива. Совсем иначе обстоит с этим в странах постсоветского пространства. Удивительная ситуация: страна, которая выдала такую сентенцию как «кадры решают все», не придерживается её, а лишь громко декларирует. А ведь все решения принимают, исполняют и контролируют люди. Соответственно, от их компетентности, честности, профессионализма, патриотизма и прочего зависит качество всего, что происходит в обществе. Но мы почему-то противоречим этой сентенции на уровне культурной матрицы – пословиц, поговорок и иносказании: «кадры решают все», но в то же время – «незаменимых не бывает».
Приняв решение остаться дома, я очень чётко понимал: да, у меня есть определенный опыт, где-то даже, может быть, уникальный. Не каждый, наверное, участвовал в 18 лет в предвыборной компании кандидата в президенты США, преподавал в вузе другой страны. Но при этом я очень быстро понял, что вряд ли сделаю за рубежом большую политическую карьеру. Я буду там всегда находиться в ситуации «наемный работник». Да, я буду там хорошо зарабатывать, но влиять на какие-то решения, которые системно поменяют сложившиеся отношения, улучшат жизнь людей, не получится. В США, например, я мог бы успешно заниматься своим бизнесом. Пожалуйста! В стране, которая вся построена на этом, никому не запрещено делать деньги. Но это было историей моего личного успеха, а не лидера масс. Там есть свой, так называемый американский национализм: «Как?! Он же не в этой стране родился, не здесь вырос».
А я всегда видел своё предназначение в публичных вещах и, самое главное, в возможности менять какие-то социальные установки, чтобы, как бы это пафосно ни звучало, улучшать или хотя бы менять к лучшему жизнь людей. Казахстан – это моя родина, и я, как любой гражданин этой страны, могу заявить, что я на этой земле родился, что я плоть от плоти от своего народа, а потому у меня есть такое же право, как у каждого из нас, претендовать на что-то большее, чем имею. Моя позиция такова: изучить серьёзные структурные проблемы изнутри, чтобы знать, как их решить эволюционным путём. Этот путь тяжелый: устаешь, разочаровываешься, возмущаешься при виде явной несправедливости, вступаешь во внутренний конфликт с самим собой от того, что в данный момент ситуацию ты все равно поменять не можешь, но…. У Махатмы Ганди (и он сам, и его труды оказали на меня большое влияние) есть знаменитое выражение: всегда знайте правила, чтобы уметь их потом нарушать. Это очень утрированное понимание ситуации: у нас все плохо, потому что все решается на уровне брат-сват, Баке и Маке. Но позиция полного отторжения, как показывает история, ни к чему хорошему не приводит. Безжалостная революция более эффективна на первый взгляд: все сломали и объявили, что «мы наш, мы новый мир построим». Но есть один огромный минус, который перечеркивает все завоевания революции: это разрушение преемственности. Абсолютного зла не бывает, любая сложившаяся система худо или бедно, но работает. Ломая существующее революционным путём, можно вместе с водой выплеснуть и младенца.
Более того, если не принимающее критикующее большинство будет говорить, что выжить нормальному человеку внутри стаи невозможно, то исчезнут и надежды на перемены. Тогда мы смиримся с тем, что никаких особых талантов для достижения успеха не нужно. Все можно решить с помощью денег или силы. Это, по их мнению, и есть правда жизни.
Субъективный фактор девальвации профессиональных ценностей – провал в области идеологии, отсутствие правильных идеалов. В 90 годах сделали слишком большой крен в сторону экономики, был брошен лозунг «Зарабатывайте! Обогащайтесь!». Но так как правила игры были непрозрачные и неодинаковы для всех, то те, кто быстро сколотил состояние на этом, укоренились в понимании того, что только так вопросы и решаются – силовыми или денежно-договорными методами. Соответственно, второе поколение также укоренилось в этой мысли: если так делают наши родители, мы тоже пойдем таким путём. Налицо кризис духовных ценностей. И это проблема не просто сложная, она стержневая – тут и коррупция, тут и неэффективность принимаемых решений. Но повторяю, не все так страшно и плохо, как кажется.
Поэтому моя личная позиция – узнать болевые точки существующей системы и попытаться на своём маленьком участке делать по-другому. И в итоге встать у руля определенных решений. Это гораздо лучше, нежели, стоя вне системы, критиковать и не принимать её. Она ведь в таком случае все равно будет идти дальше. И тогда это будет двойное торжество конъюнктурщиков. Сейчас мы, кстати, приближаемся к очень опасной черте, когда груз неэффективных решений может перевесить прочность всей нашей системы. А ведь у нас есть много профессионалов, открытых, думающих, прогрессивных, но они либо разобщены, либо заняли позицию – я в эту систему не лезу, мне моё доброе имя дороже. Но если система сама по себе будет неправильной, будет плохо всем. Невозможно считать себя чистым, стоя по колено в сточной яме. Я хочу своим маленьким примером показать, что в Казахстане можно нормально работать, иначе обществом овладеет полный пессимизм.